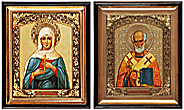|
|
Рассказ «Овсяное печенье»
|
Случается, самые обыкновенные фразы, сказанные по пустякам, становятся, что
называется, учительными. Важен момент, в который произносятся эти простые и, быть
может, неинтересные фразы. Если момент подходящий, то и расхожие слова, употребляемые
нами по нескольку раз на дню, могут обрести особый смысл и даже вызвать некие, более
или менее содержательные, размышления. А вот удобоприменительность момента — вопрос
загадочный и легковесному объяснению не подлежит. Тут уж все: как получится…
Однажды, второго февраля мы отмечали у отца архимандрита очередную годовщину
Сталинградской битвы, в которой он принимал самое героическое участие. Батюшка
был известен крайней строгостью по отношению к себе и безграничной доброжелательностью
ко всем остальным людям. Его уже донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил
редко, разве только на службу иногда: помолиться со всеми, причаститься… Жил, можно
сказать, в молитвенном уединении. Но Сталинградскую победу отмечал неуклонно. И всякий,
кто помнил, что именно произошло второго февраля сорок третьего года, мог зайти к нему.
Празднование совершалось в полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали,
было положено еще на передовой. Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от
термосов: в одной — сто не сто, но граммов пятьдесят фронтовых, в другой — специально
приготовленная закуска: зеленый горошек в собственном соку, перемешанный с мелко
нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали крышечку «за победу!», подкреплялись
кулинарным изыском и пиршество завершалось. Хозяин кельи в этом занятии не участвовал
по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще присоединился к нему молоденький
пономарь, пришедший с одним из священников: он строго отверг предложение и взирал
на все с видимой осудительностью.
Рассказывать про войну отец архимандрит не любил:
— А чего там рассказывать? Наступаем, отступаем, окапываемся. Опять наступаем.
Того убило, этого ранило. Того похоронили, этого — в госпиталь. Другого убило,
меня ранило. Его похоронили, меня — в госпиталь. Подлечили — опять: наступаем,
отступаем, окапываемся. Война — дело неинтересное, — и улыбался.
Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях: где чего
построили, кого куда перевели по службе, но тут батюшка вдруг спросил, а из нас-то
кто-нибудь бывал в Сталинграде? Оказалось, что, кроме меня, никто.
— В какие, — спрашивает, — времена? Наверное, Волгоградом назывался уже?
— В начале пятидесятых, — говорю, — самый что ни на есть Сталинград.
И ему, не видавшему город с февраля сорок третьего, стало так занимательно, что
он потребовал от меня полного описания.
Мы с отцом плыли тогда по Волге на пароходишке — еще колесном: в ту пору по Волге
ходило немало таких судов, на плаву был даже «Яхонт» — реликвия с кормовым колесом.
А буксиры так почти все были колесными: знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие,
из-за выпирающих по бортам колес.
Сталинград спешно восстанавливался, была уже построена парадная лестница на берегу
Волги, над развалинами тут и там поднимались дома, ходил трамвай. Мы доехали до
Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими гильзами.
Я насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил все немецкие: «Может, пулями из этих
гильз убило кого-то из наших». Всюду по сторонам виднелись могильные холмики: где
с жестяной звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели
россыпи костяного крошева…
Другой батюшка рассказал, что один из его родственников — дядька что ли — был ранен
под Сталинградом и потерял ногу. И просил, если кто окажется в тех краях, поискать
— может, найдется, а то протез ему надоел.
Отец архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории
как подарки, как посильное приношение к празднику. Приношение Сталинграду.
Тут я вспомнил еще рассказы матери: с выездной редакцией «Комсомолки» она попала
в Сталинград вскоре после освобождения. Надо было налаживать выпуск газеты и
одновременно заниматься детьми: в городе оказалось неожиданно много детей — тысячи
детей, загадочным образом переживших зиму на линии фронта. Когда прошлым летом
ребятишек собрали на берегу и начали перевозить через Волгу, немцы старательно
разбомбили переполненную баржу с красным крестом. Жуткое это событие нарушило план,
и ребятишки порасползались. И вот теперь их собирали, откармливали, лечили. Для
самых мелких — «детские сады»: выберут среди развалин место поровнее, посадят
человек двадцать в перевернутые немецкие каски, а над всем — девушка-боец с
автоматом. Она — и воспитатель, и заведующая, и завхоз, и охранник. Днем солдаты
приносят еду, а на ночь малышей укрывают в ближайшем подвале: там есть тюфяки,
одеяла и печка-буржуйка.
Летом на другом берегу Волги устроили пионерский лагерь — дети жили в шатровых
солдатских палатках. Для развлечения и боевой подготовки то и дело проводились
военные игры. Как-то заметили, что один парнишка уклоняется от военных игр, и
пристыдили его, обвинив в трусости. В ответ он неохотно предъявил медаль
«За отвагу» и сказал, что с деревянным автоматом бегать не будет, ну, а если
понадобится, сможет и оборону организовать, и наступление. Сообщили военруку-инвалиду.
Тот пришел, побеседовал и велел отрока больше не трогать: «Свой парень — фронтовик»,
— но при этом выглядел заметно встревоженным. Той же ночью оба фронтовика
по-разведчески незаметно пробрались за территорию лагеря, и мальчонка сдал свой
тайник — до утра топили в реке пистолеты, гранаты, боеприпасы, с помощью которых
и предполагалось организовывать хоть оборону, хоть наступление.
А первого сентября открыли первую школу: ремонт закончили только к утру, сильно
пахло сырой штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок.
Она торжественно поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом,
с открытием первой школы, с началом учебного года, а потом стала называть фамилии
учеников и расспрашивать о родителях. Дети отвечали: «Отец погиб на войне, мать
угнана в Германию… Отец погиб на войне, мать убита в бомбежку… погиб… убита…
убит…». Учительница выбежала в коридор и, прижавшись лицом и всем телом к невысохшей
еще стене, даже не зарыдала, а завыла — истошно, пронзительно. Девушки-штукатуры,
стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса ученики стали всех
успокаивать, завыли и девушки, и общий вой достиг какой-то невероятной силы и высоты.
Учительница, перемазанная в штукатурке, обессилено сползла на пол. В конце концов
ребята всех успокоили, взрослые вытерли слезы, отмыли учительницу и занятия
благополучно продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать…
Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для
присутствовавших гостей — исключая, пожалуй, пономаря — стали уроком. Казалось
бы: после таких бесед — и совсем пустой лепет… А вот поди ж ты!
Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье — оно напоминало ему
какие-то галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно:
— В постные дни — не ем. А была не то среда, не то пятница.
— Почему? — робко спросил хозяин.
— У нас его продают в коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный
порошок, потому и не ем.
Батюшка улыбнулся и тихо сказал:
— А у нас его продают в пакетах, и на пакетах ничего не написано, так что я — ем.
Вот и все простые слова.
Через несколько дней отец архимандрит принял схиму. А юноша с отличием окончил
семинарию и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь,
кажется, на пятом или шестом: ни с кем не уживается, всех поучает, и все у него
как-то внешне, внешне…
А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и
всякий раз вспоминаем: «на пакетах ничего не написано, так что я — ем».
Автор: Ярослав Шипов, священник. 2009 г.
<< Вернуться в литературный уголок
|
|